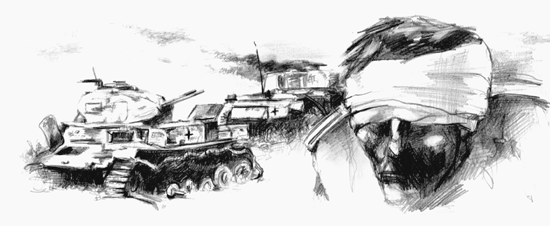
– Молодец, Соболев! – прохрипел Вологжин и закашлялся, задохнувшись пороховыми газами, вырвавшимися из казенной части орудия. Рис. Анны ТРУХАНОВОЙ.
Звякнула упавшая вниз гильза, а в казенник уже досылался третий снаряд.
– Не спеши, – продолжал командовать Вологжин. – Они нас все еще не обнаружили. И у них, судя по всему, приказ: идти вперед и не останавливаться ни при каких обстоятельствах. Пусть идут. Возьми-ка на прицел вон ту «пантеру», что идет почти впритык следом за «тигром». Да нет, не эту, а правее! Видать, боится, пытается прикрыться своим полосатым собратом, – нервно хохотнул Вологжин и даже сам подивился этому своему хохотку. «С чего бы это вдруг?» – подумал он, следя за стволом орудия, медленно ползущим вслед за выбранной жертвой. – Мы, чего доброго, сегодня можем рекорд поставить, – продолжал он говорить, внешне спокойно и даже насмешливо, а внутри у него все звенело от напряжения, каждая жилочка, каждый нерв. И не от страха, нет. Какой тут страх! А оттого, что ему в модифицированной тридцатьчетверке отведена роль наблюдателя. Когда сам ведешь огонь, совсем другое дело. Тогда все внимание сосредоточено на цели, а тут... – Я слыхал, – звучал в наушниках членов экипажа его внешне спокойный и даже насмешливый голос, – ...слыхал, что на Ленинградском фронте одна тридцатьчетверка из засады расстреляла восемь «тигров». Еще в сентябре сорок первого. Говорили, что в одном из них сидела какая-то крупная немецкая шишка. А у нас уже два. «Пантеру» вполне можно приравнять к «тигру». Так что давай, Андрюша! «Звездочку» ты уже заработал. Жми на «Красное Знамя»!
Выстрел, откат, жалобный звон опорожненной гильзы, захлебывающийся вой вентилятора...
На этот раз Вологжин выдержал выстрел, не закрыв глаза: ко всему привыкаешь – и увидел, как дернулась «пантера», будто живое существо, а затем рванула, захлебнувшись огнем и дымом. Но он заметил и другое: стволы многих танков стали поворачиваться и задираться в их сторону. Он даже разглядел черные дыры этих стволов. Засекли, сволочи!
– Теперь давай «тигра»! – скомандовал он.
Но немцы опередили: вокруг рвануло сразу с полдюжины снарядов, затем еще и еще. Но ни один не задел танк, а лишь камни посыпались сверху, поднятые взрывом, и на минуту все заволокло дымом и белой известковой пылью.
– Вот сволочи, Гитлера их мать! – выругался Вологжин. И подумал: «Эдак они нас ослепят, и нам останется только хлопать глазами. Хоть бы ветер подул...»
И он переключился на внешнюю связь:
– «Двухсотые»! Я – «Восемнадцатый». Как там у вас?
– Нормально, «Восемнадцатый».
– Нас засекли, пыль, дым, ни черта не видно. Но вы не спешите. Пусть подойдут поближе. И заранее распределите цели, чтобы не палить в упор по одному и тому же танку.
– Уже распределили, «Восемнадцатый».
– Все. До связи.
Дым все-таки отнесло, пыль тоже. Немцы больше не стреляли. Они выжимали из своих танков все, что могли, и ревом их моторов заглушило все звуки.
– Андрюша, как видимость?
– Нормальная, товарищ майор.
– Давай по головному.
– Есть по головному.
Выстрел, откат, звон упавшей вниз гильзы...
– Четвертый, – произнес Соболев, не дождавшийся, чтобы командир как-то откликнулся на этот выстрел.
– Хорошо, – не сразу произнес Вологжин своим обычным спокойным голосом; у него вдруг пропало желание говорить.
– Давай пятого – и будет по одному на брата! – послышался голос механика-водителя сержанта Прутникова.
И тут рвануло.
Острая боль охватила все тело Вологжина, и он провалился в бездну.
* * *
Вологжин очнулся и вновь почувствовал острую боль во всем теле. Но так не бывает, чтобы во всем: это он знал из опыта других ранений. И он стал мысленно ощупывать свое тело. Болела левая нога, но не остро, а ноющей болью. Ныла левая же рука и весь бок. Скорее всего, контузия. Еще выше... И тут он понял, что вся боль сосредоточена в глазах. Именно их жгло и резало нестерпимо. Он пошевелил левой рукой – шевелится. Правой – то же самое. Тогда он поднял руку и дотронулся до своего лица: лицо было мокрое и липкое от крови. «Это ничего, – подумал он. – С лица воду не пить». Но чем выше поднималась рука, тем сильнее его охватывала паника, и он уже понимал: с глазами что-то неладное. Они не открывались. Более того, он боялся их открыть. А пальцы сами собой поднимались вверх, ощупывали подбородок, губы, нос: в крови, но все вроде бы на месте. И наконец глаза. Едва он прикоснулся к ним, как боль усилилась настолько, что он не выдержал и застонал.
– Товарищ майор, – донеслось до его слуха. – Товарищ командир, вы живы?
– Кажется, жив, – прохрипел Вологжин. И спросил, не узнав голоса: – Прутников? Ты, что ли?
– Никак нет, товарищ майор. Я – Сотников, стрелок. А Прутникова убило. И Ластикова, заряжающего, тоже. И Андрюху Соболева... Я думал, и вас тоже, а вы, оказывается, живы. Я так рад, товарищ майор.
И Вологжин услышал, что Сотников плачет.
– Ты что, Сотников! Как не стыдно! И с чего ты взял, что все погибли? Может, без сознания, – говорил Вологжин, с трудом шевеля израненными губами и неповоротливым языком. – Ты лучше скажи, что сейчас вокруг делается, а то я ничего не вижу... С глазами у меня что-то...
– Так мне отсюда ничего не видно, товарищ майор. Я знаю только, что нас завалило взрывом. А больше я ничего не знаю, товарищ майор.
И снизу опять послышался приглушенный всхлип.
«Мальчишка, однако», – подумал Вологжин, пытаясь вспомнить, как зовут стрелка.
Не вспоминалось. К тому же мешала боль и страх, что глаз-то у него... И тогда, преодолев себя, он дотронулся до правого глаза одним пальцем, и почувствовал, что палец будто проваливается в дыру, хотя он, его палец, остановился на какой-то границе, которую раньше не перешагивал и о существовании которой помнил, потому что дальше было глазное яблоко, а теперь его не было, и век тоже не было, а было что-то липкое. Стиснув зубы, Вологжин точно таким же образом исследовал и второй глаз – на месте второго глаза тоже была дыра.
«Довоевался», – подумал он, но подумал так, будто речь шла не о нем, а о ком-то другом. Потому что представить себя слепым, с провалившимися глазницами, не мог. Кого угодно, но только не себя.
– Что будем делать, товарищ майор? – донесся до его слуха голос Сотникова, отвлекая Вологжина от еще не вполне осознанной утраты. – У нас даже нижний люк не открывается.
– А что нам делать, Сотников? Ждать, вот что нам остается делать. Ты вот что, парень... Сам-то как? Ранен?
– Никак нет, товарищ майор. Контузило маленько. В голове шум, и спина болит.
– Ничего, пройдет. Бой кончится, наши придут, вытащат нас отсюда. Ты вот что, Артем... Тебя Артемом зовут? Так?
– Никак нет, товарищ майор. Артемом заряжающего зовут, Ластикова. А меня Тимофеем.
– Ты вот что, Тимоша. Ты еще раз хорошенько проверь ребят, может, кто и жив. Ты на шее трогай, под подбородком. Там жила проходит.
Внизу завозились, послышался звон отстрелянных гильз. Потом опять всхлип.
– Мертвый он, товарищ майор, – послышался снизу плачущий голос. – Холодный уже.
– Как холодный? – удивился Вологжин. – Сколько же мы тут?..
– Вечер уже, товарищ майор. Уже все тихо, не стреляют. Побили наших, товарищ майор. Всех побили.
– Ну ты это брось, парень! Ишь выдумал: побили. Всех побить не могли. Не те времена. Отступили наши. Потому что сила у фрицев страшная. Но далеко они не пройдут. У нас тоже сила будь здоров какая. Сам же видел, как мы их щелкали. А сзади нас другие наши войска стоят, они не пропустят.
Вологжин замолчал и прислушался: бой шел, но где-то далеко, его звуки доносились глухо, как сквозь подушку. Может, со слухом у него тоже, а не только глаза... Но он заставил себя не думать о своих глазах – и даже боль от этого стала тише.
– Давай, лезь сюда, наверх, Тимоша, – позвал Вологжин. – Проверь остальных.
Снова зазвенели гильзы, затем возле ног послышалось кряхтение и шумное дыхание живого человека.
– Ластиков тоже мертвый, товарищ майор, – произнес Сотников, на этот раз без всхлипа.
– Стащи его вниз, – приказал Вологжин.
Внизу запыхтело, послышалось бряцание чего-то, затем все стихло.
– Ну, ты чего там застрял? – спросил Вологжин.
– У него пальцев на руке нету, товарищ майор, – опять всхлипнул Сотников.
– Мертвому пальцы не нужны, – оборвал всхлипывания Вологжин. – Держись, солдат. Еще неизвестно, сколько нам тут торчать придется. Тащи давай вниз Соболева. Если мертвый.
– Мертвый, товарищ майор. У него череп весь... прямо ужас один...
– Лезь сюда и не мямли! Не девочка, чай. Сожми себя в кулак и держись! Ясно?
– Так точно, товарищ майор. А только жалко ребят... страсть, как жалко.
– Что тут поделаешь, Тимоша. Радуйся, что жив остался и не ранен. Теперь нам выжить надо, пока наши не придут.
Мимо, задевая Вологжина, вниз потянулось тело наводчика, и руки его, казалось, цеплялись за комбинезон, точно Соболев был еще жив. Потом какое-то время было тихо, но Вологжин не стал подгонять парня: в девятнадцать лет испытать такое – не всякий взрослый мужик выдержит.
Затем, уже легкими движениями ощупывая Вологжина, боясь его задеть, Тимофей Сотников уселся на место наводчика и шумно, с привсхлипом, выдохнул воздух.
– Ты меня видишь? – спросил Вологжин, повернув голову в сторону наводчика.
– Вижу, товарищ майор.
– И что?
– Лицо у вас... в крови.
– А глаза?
– Тоже... кровь одна... и что-то на ниточке висит... вроде как глаз, товарищ майор.
– Отрежь. Возьми пакет и перевяжи.
– Сейчас, товарищ майор, я только руки вытру.
– Не спеши. Нам теперь спешить некуда... А что видно вокруг?
– Немцы, товарищ майор, – перешел на шепот Сотников.
– Что, близко?
– Нет, там, на дороге. Танки свои растаскивают. Мертвяков собирают.
– Еще что видишь?
– Больше ничего. Вечер уже, товарищ майор. Видно плохо. И дым. Они потом дымовую завесу пустили и поперли. Наши, Арапников и Семенков, долго стреляли, а потом стихли. Не знаю, ушли или остались.
– А ты посмотри: их же видно было.
– Я смотрел: нету.
– А рядом фрицев нет?
– Не видно, товарищ майор.
– Ладно. Перевязывай.
Вологжин запрокинул лицо, сидел, сжав зубы до ломоты в скулах. Он слышал, как Сотников, сдерживая дыхание, осторожно прикасается к его лицу, как он что-то отлепил от него, затем лица коснулась прохладная сталь армейского ножа. Потом мокрые тампоны обтерли лицо, и на него стали ложиться шершавые, до дрожи во всем теле, сухие полосы бинта.
Сотников долго и неумело обматывал его голову, сопя от напряжения.
– Уши-то не закрывай! Еще могут пригодиться. Если я не вижу, то хотя бы тебя могу слышать... Вот так вот, во-от. Молодец, – подбадривал Сотникова Вологжин. – Вот кончится война, Тимоша, приедешь ко мне в Череповец, в гости, станем вспоминать, как воевали вместе, выпьем по чарке... Да-а... Жизнь станет хорошей... после войны-то. Совсем другой станет. Вот увидишь... Пойдем с тобой на рыбалку... У нас рыбы – страсть как много. Всякой. Две реки рядом: Шексна и Ягорба. И Волга не шибко далеко от нас. Да-а. И на уду, и сетью... Уху сообразим... Будь здоров, какая уха у нас с тобой получится...
Где-то рядом зарокотал пулемет, наш, Дегтярева. Бухнули одна за другой две гранаты, бабахнули винтовочные выстрелы, зачечекал немецкий автомат. Потом совсем рядом затопало, послышались голоса, сперва не разберешь из-за стрельбы, чьи, и Сотников вдруг вскрикнул, но Вологжин вцепился в его руку, зашипел, угадав в невнятных голосах не русский, а чужой выговор.
Шаги и выстрелы накатили, стали подниматься вверх, еще раз зашелся длинной очередью «дегтярь», сильно рвануло, похоже на связку гранат, и все стихло. И долго сидели Вологжин и Сотников, прислушиваясь к этой тишине.
– Корректировщики, – прошептал Сотников.
– Похоже, что так, – согласился Вологжин. – Как стемнеет, попробуем выбраться, – произнес он после длительной паузы. Ноги у меня вроде бы...
Но тут залязгало совсем рядом, у подошвы гряды, там, где недавно таились два его танка. Раздались лающие команды, рокот моторов, удары кирок и ломов по каменистой почве.
– Что там? – спросил Вологжин, хотя мог бы и не спрашивать: такие звуки говорили о том, что немцы готовят позиции для своих орудий, и выбираться из танка – попасть им в лапы.
– Немцы, товарищ майор. Пушки устанавливают. А по дороге танки идут. Много танков, товарищ майор.
– Ты вот что, Сотников. Давай поменяемся с тобой местами. С моего места лучше видно. Будешь смотреть, докладывать что и как. – А у самого в голове: «Зачем мне это? Что с этим делать? Ерунда». И в то же время что-то толкало его делать нечто привычное, что уже не имело смысла.
С трудом владея своим непослушным и ставшим неожиданно громоздким телом, Вологжин с помощью Сотникова перебрался на место наводчика. Умостившись, ощупал казенник орудия: оно стояло на боевом взводе, то есть снаряд был в стволе, спусковой механизм – только нажми, и грянет выстрел. Открыв затвор, он вытащил снаряд и положил его в желоб откатника. Работа вроде не такая уж тяжелая, а он задыхался и чувствовал временами, что вот-вот потеряет сознание.
* * *
Утро разгоралось медленно, но Вологжин, мучаясь болью и лишь изредка проваливаясь в сон, не видел занимающейся зари. Зато он чувствовал сладковатый запах начавших разлагаться трупов. Было ясно: им здесь сидеть и ждать, и терпеть, потому что другого не дано. А дано ему, скорее всего, заражение крови, столбняк или еще что-нибудь в этом роде. Так не лучше ли застрелиться и отпустить Сотникова на все четыре стороны? Вернее, приказать ему уйти, как только стемнеет, чтобы добрался до наших, передал... хотя передавать в сущности и нечего... и уж потом застрелиться, чтобы зря не мучиться, а главное... главное – не возвращаться домой слепым калекой, не садиться на шею молодой жене, не возвращаться к детям, которым не сможет дать ничего, – будущее свое он не мог себе представить, все это было противоестественно и мучительно.
– Товарищ майор, – снова послышался всхлипывающий голос Сотникова.
– Что тебе?
– Немцы... Немцы наших по дороге гонят. Пленных...
– Много?
– Человек двадцать.
– Что ж тут поделаешь, брат: война.
– А как же мы?
– Ты вот что. День как-нибудь переживем, а едва стемнеет, выбирайся из танка и иди к нашим. Скажешь, что так, мол, и так, что немцы устанавливают пушки... ну и... что по дороге еще увидишь.
– Как же я вас брошу, товарищ майор? Мы это... лучше по рации передадим...
– По рации, – усмехнулся Вологжин. – Рация-то, небось, вдребезги. Хотя... чем черт не шутит... Посмотри, что там с рацией.
И какая-то надежда вспыхнула в нем и зазвенела тоненькой, туго натянутой жилкой. Он сидел и слушал, как Сотников возился внизу, чем-то брякал осторожно, и эти звуки возвращали его к жизни. Он подумал, что Сотников вряд ли сумеет пройти незамеченным через плотные порядки противника, а здесь, в танке, они могут дождаться наших, а там... а застрелиться он успеет всегда, зато помочь этому несмышленышу выкарабкаться – его святая обязанность и как командира, и как человека.
– Товарищ майор, – послышался сдавленный шепот Сотникова.
– Чего тебе?
– Я в туалет хочу... Силов нету терпеть.
– Спустись вниз и сделай, что тебе надо.
– Как же это? Там же ребята...
– Тогда терпи. Или в штаны. Нам из танка выбираться нельзя.
– Вонять будет...
– А сейчас что? «Красной Москвой» пахнет? Днем, когда жара начнется, трупная вонь еще сильнее будет. Одной вонью больше, одной меньше... Терпи. Нам до победы дожить нужно. Нам с тобой в их проклятом Берлине побывать нужно, – говорил Вологжин с накатывающей на него ненавистью, понимая, что ему в Берлине не бывать, что вообще уже ничему не бывать, зато можно как-то погромче закончить свою жизнь. Как именно, он еще не знал, но был уверен, что придумать что-то можно. И он продолжал хрипло кидать в сторону притихшего Сотникова слова, дышащие отчаянием и ненавистью: – А это... Это забудется, как дурной сон... Если сможет забыться... Но мы им, сукам, все припомним. Мы у них, в их поганой Германии, дай срок, все вверх дном перевернем. Ради этого жить надо, Сотников. Жить и терпеть. Ты меня понял?
– Так точно, товарищ майор. Понял.
– Ну вот и славно, – выдохнул Вологжин и замолк.
Долго не было слышно ничего. Лишь вдалеке долбила артиллерия. Затем с торжествующим гулом прошли над головой наши штурмовики. Через пару минут где-то загрохотало.
– Сотников, где ты там? – окликнул Вологжин стрелка и протянул руку.
– Здесь я, товарищ командир.
– Облегчился?
– Да.
– А рацию смотрел?
– Смотрел: провод питания перебит.
– Так замени. У Прутникова в бардачке все есть.
– Я знаю.
– А знаешь, так давай действуй. И посмотри: там фляжки с водой должны быть, сухпай. Водка должна быть. Тащи все наверх. А еще магнит.
– А магнит-то зачем?
– Осколки из глаз вытащить: мозжит ужасно.
Послышалось сопение, накатила новая вонь – до тошноты, но Вологжин проглотил слюну и откинулся на спинку сиденья. Он вспомнил, как однажды, еще до войны, пришлось ему побывать в морге для опознания своего красноармейца, погибшего во время взрыва склада с боеприпасами, какая там встретила его вонь и как среди этих трупов, лежащих на подтаивающих глыбах льда, присыпанных опилками, два человека в грязных халатах ели яблоки, с хрустом вгрызаясь в них крепкими зубами. Его тогда чуть не вырвало. А потом, когда началась война, случалось такое, что сравнивать с моргом – считай, что не с чем.
Послышались лающие команды. Залязгали орудийные затворы. «Фойер!» – и ударило орудие.
«Пожалуй, калибром сто сорок, – подумал Вологжин. – Ведут пристрелку. Потом начнут крыть беглым. Значит, наши близко, недалеко отошли».
– Вот, – послышался рядом голос Сотникова. – Принес.
– А связь? Связь восстановил?
– Еще нет, товарищ майор. Сейчас восстановлю. Главное, аккумуляторы исправны. А рация... пока еще не знаю. Подключусь, тогда и узнаю.
– Поторопись, Тимоша. Хорошо бы своим товарищам помочь. Корректировщики, видать, погибли или ушли. Теперь наша очередь.
Рация оказалась целой. Из этого Вологжин сделал вывод, что слева от танка рванула бомба большого калибра. А может, и не бомба, а снаряд из самоходки. И все, кто находился слева, погибли от осколков, вырванных из танковой брони ударной волной или большими осколками от бомбы, погибли, прикрыв своими телами остальных. А заряжающий спас рацию. Вот только глаза самого Вологжина не были прикрыты ничем и никем: во время взрыва он смотрел на поле боя через прорези своей командирской башни.
– Дай мне шлемофон, Сотников: мой не работает, – велел Вологжин и, приняв у стрелка шлемофон, попытался натянуть на голову, но Сотников столько намотал на нее бинтов, что и пытаться бесполезно.
Положив шлемофон на колени, Вологжин, стиснув зубы, принялся сматывать окровавленные бинты. Потом, передохнув и сжавшись от предчувствия еще более сильной боли, поднес к глазам подковообразный магнит. И боль точно резанула его по глазам и остановилась на каком-то пороге. Следовательно, за минувшие часы в глазницах кровь запеклась и магнит не может вытащить осколки. Вологжин отвел магнит от глаз и некоторое время сидел, пережидая, пока боль не утихнет. Затем велел Сотникову смочить марлевые тампоны водкой и приложил их к глазницам. Боль, но уже другого рода, ударила в голову и помутила сознание. Но Вологжин не отнимал рук от лица, скрипел зубами, мычал и терпел. И перетерпел: боль стихла, голову обволокло чем-то вроде блаженства, когда ничего не хочется, а лишь бы это состояние длилось вечно. Но через какое-то время возникла другая боль, пульсирующая, и стала нарастать, охватывая всю голову.
Вологжин убрал тампоны и снова резко приблизил к глазницам магнит: глаза, или то, что от них осталось, обожгло, а затем вновь наступило уже знакомое блаженство исчезновения сильной боли. Решив, что больше ничего сделать не сможет, он попросил Сотникова наложить на глаза легкую повязку с тампонами, и только после этого шлемофон налез на голову. И еще какое-то время потребовалось на то, чтобы успокоиться и собраться с мыслями.
По-прежнему методично стреляли немецкие орудия, а со стороны дороги доносился прерывистый гул моторов.
– Все прут и прут, товарищ майор, – звучал сбоку отчаянный шепот Сотникова. – Просто ужас какой-то, как их много.
– Чего много?
– Танков и всяких машин.
– Ничего, сейчас много, через час станет меньше.
Включив рацию, Вологжин пощелкал переключателем, переходя с одной фиксированной волны на другую, и наконец наткнулся на родной голос, правда, далекий и еле слышный, который просил «Ромашку» ударить по квадрату 12-40. Влезать в переговоры «Ромашки» с кем-то еще не имело смысла. Лучше всего выходить на свою связную рацию при штабе полка подполковника Лысогорова – если он выжил и отошел со своей позиции на следующую. Есть еще рация у начальника штаба отдельного танкового батальона капитана Тетеркина. Но начинать надо с «Семнадцатого»: у него артиллерия, у него связь с дивизией.
«Семнадцатый» не отвечал долго. Вологжин уж отчаялся до него докричаться. Наконец, после щелчка, прорвался чей-то голос:
– «Семнадцатый» слушает «Восемнадцатого». Прием.
– «Семнадцатый»! Я нахожусь на старой позиции. Выбраться не могу: вокруг фрицы. В пределах видимости от меня несколько немецких батарей ведут огонь. По дороге в квадрате 54-16 все время движутся танки и тыловые части обеспечения. Готов корректировать огонь артиллерии. Прием.
– «Восемнадцатый»! Номер вашего танка, ваша фамилия, звание и фамилии офицеров вашего штаба, – после некоторой паузы отчеканил далекий голос.
«Не верят! – изумился Вологжин. – Вот сволочи! Тут каждая минута дорога, а они...» Однако Вологжин справился с нахлынувшей на него злостью и передал требуемые данные. После этого последовала команда:
– Ждите на связи.
Прошло не менее получаса, прежде чем «Семнадцатый» заговорил вновь:
– «Восемнадцатый»! Переходите на третью волну! Смените позывные на резервные.
Вологжин пощелкал переключателем, услыхал знакомые позывные на мотив песни из кинофильма «Волга-Волга».
– «Енесей»! Я «Байкал»! Прием!
– Даем пристрелочный, – послышалось в наушниках, и у Вологжина отлегло от сердца. И даже боль в глазах будто бы утихла совсем.
– Сотников! – позвал он громко, потому что голос заглушило новым залпом немецких батарей. – Наши начинают пристрелку. Корректируй. Имей в виду, что справа от нас левая сторона, слева – правая.
– Есть! – вскрикнул Сотников.
– Не ори и следи за обстановкой. Где лег снаряд?
– Метрах в трехстах впереди и правее. То есть левее с их стороны метров на пятьсот.
– «Енисей»! Я «Байкал»! Недолет триста, правее пятьсот.
– «Байкал»! Вас понял: недолет триста, правее пятьсот. Даем пристрелочный.
– Смотри, Тимоха! Внимательно смотри! – велел Вологжин Сотникову.
Рвануло у них за спиной метров на двести выше по скату.
Вологжин дал новую поправку. На этот раз снаряд ударил между двумя орудиями.
– Есть попадание! – сообщил Вологжин.
И через пару минут там, где стояли немецкие орудия, разверзся ад из множества разрывов, и вскоре все затянуло дымом и пылью.
– Вот так вот, милый ты мой Тимоха, – с чувством произнес Вологжин. – А ты говорил: их много. Теперь стало поменьше. Мы еще с тобой повоюем.
После разгрома немецких батарей и налета наших штурмовиков на тыловую колонну с горючим и боеприпасами все вокруг на какое-то время стихло и затаилось.
– Давай перекусим, – предложил Вологжин. – И дай-ка мне глотнуть из фляги.
Он отпил несколько глотков, почувствовал, как внутри у него разлилось благодатное тепло. Сотников намазывал на ломти хлеба свиную тушенку, совал их в руки Вологжина, и тот ел, мучительно напрягая слух. Оказывается, слушать, зная, что не можешь увидеть, не так-то просто. А раньше это не вызывало никаких затруднений. И трудно понять, в чем тут дело и как это связано с потерей зрения. А может, у него и со слухом все-таки не все ладно? И он время от времени переспрашивал у Сотникова:
– Ты ничего не слышишь?
– Нет, товарищ майор. То есть я слышу, что стреляют где-то далеко, а рядом... рядом все пока тихо.
– Вот то-то и оно, что тихо. А почему? Ты посмотри, Тимоха, что там делается.
– Я смотрю, товарищ майор. Немцы убитых собирают, повозки ездят, пушки ихние валяются, машины горят... Вот... Ага, вот какая-то машина приехала. Вроде как легковая. Мотоциклисты, бронетранспортер – охрана, значит. Какой-то немецкий командир из машины вылез... может, генерал... все перед ним тянутся... рукой повел так, знаете ли, будто все это ихнее и потому должен быть порядок. Вот он опять сел в машину, поехал... повернули в сторону фронта... А больше ничего не видно.
– Ладно, ты ешь, но по сторонам поглядывай постоянно. Генерал там или кто, а приезжал сюда он не зря. И насчет порядка – ты это верно подметил: непорядок это, когда столько пушек русские раздолбали. Неспроста это, думает этот их генерал. Значит, сейчас они забегают. Станут искать, что и откуда. Так что ты смотри в оба, а то засекут нас – и хана.
– Я смотрю, товарищ майор.
– А танки наши – ты их нигде не видишь? Посмотри, нет ли возле лесочка?
– Никак нет, товарищ майор. Нету наших танков. Отошли, наверное. Я так думаю, товарищ майор, что приказ был, вот они и отошли. Без приказу бы стояли – за это я головой ручаюсь.
– Я и сам, Тимоха, знаю, что стояли бы, – согласился Вологжин.
И вспомнил он с сожалением, что письмо заводскому представителю так и не отправил и теперь лежит оно в его полевой сумке. А ведь танки хорошо себя показали. И «тигров» шлепали, как гнилые орехи, и броня покрепче стала против прежней: сколько снарядов от нее отскочило, иные и приличного калибра. У старой тридцатьчетверки башню точно бы снесло, а эта выдержала, только изнутри осколки вырвало. Может, с закалкой что-нибудь не так. А главное, маневренность не стала хуже. Хотя мотор тот же, что и на старой тридцатьчетверке, а вес танка вырос тонн, считай, на пять-шесть. То есть лошадиных сил на тонну веса стало чуть меньше. И орудие... Пушка, конечно, хорошая, но надо бы как-то уменьшить звук при выстреле и пороховые газы хорошо бы выбрасывать за борт полностью, как это на американских танках устроено. Впрочем, можно и потерпеть. Главное, победить, а там все наладится.
Под вечер они еще раз вызвали огонь нашей артиллерии на колонну немецких танков и машин, направлявшихся к фронту. На этот раз ударили «катюши», и всю лощину между двумя возвышенностями перепахали своими ракетами, так что колонна превратилась в горящие и взрывающиеся кучи металла с разбросанными вокруг телами убитых фрицев.
А через час возле танка остановилось четверо немцев. Один из них залез на башню, заглядывал в смотровые щели, принюхивался, приникал ухом, стараясь уловить хоть какие-то признаки жизни, потом что-то сказал своим товарищам, и из всего сказанного Вологжин уловил лишь несколько слов: «Фу! Шайзе!» и «Аллес тотен», то есть воняет и все мертвые. Однако немцы на всякий случай постучали прикладами по броне, один из них крикнул:
– Русс! Ком, ком! Вэк! Бистро! Бистро! Шиссен! – в том смысле, что, мол, русские, мы знаем, что вы там прячетесь, вылазьте, а то будем стрелять.
Постояв и не дождавшись ответа, они сбили прикладами винтовок антенну, затем сунули в ствол орудия гранату и отскочили в сторону. В стволе рвануло, но поскольку затвор был закрыт, вся энергия взрыва вырвалась наружу, не причинив танку никакого вреда. Потом они сделали несколько выстрелов из автомата в смотровую щель командирской башенки, но большинство пуль ударялось в противоположную стенку ее, падало вниз, израсходовав свою энергию. Однако одна нашла путь в саму башню и воткнулась Вологжину в ногу повыше колена, другая выдрала у Сотникова из плеча кусок кожи.
Постреляв, немцы какое-то время топтались возле танка, курили, о чем-то лениво переговаривались. Хотя Вологжин немецкий учил в школе и в танковом училище, в анкете писал, что «владеет немецким со словарем», на самом же деле за годы армейской службы язык забыл почти начисто, вспомнить мог лишь отдельные слова, поэтому из разговоров немцев ничего не понял и пожалел, что так безответственно относился к знаниям, которые в него когда-то вложили, истратив зря народные деньги.
Немцы покурили и ушли, а Вологжин с Сотниковым занялись извлечением пули из ноги Вологжина и перевязками. А когда совсем стемнело, восстановили антенну, но не ту, которую сбили немцы, а просто выбросили кусок изолированного провода через смотровую щель.
«Надо давать другие координаты цели, – решил Вологжин. – Иначе фрицы вернутся и на этот раз не ограничатся автоматной очередью и гранатой в орудийный ствол. Тем более что еще днем Сотников заметил: если раньше немецкие машины сворачивали влево, то теперь ехали прямо к реке, где, похоже, возвели мост. Об этом Вологжин и передал «Енисею», как и о том, что немцы ищут корректировщиков.
Ночью, едва стемнело, на дороге вновь возобновилось довольно оживленное движение транспортных колонн. На этот раз, вызвав артиллерию, дали ей координаты, на целых два километра смещенные к северо-востоку, туда, где немцы устроили переправу через речку: пусть фрицы думают, что корректировщики сменили позицию. Снова по цели сработали «катюши», но результат их работы отсюда во всех подробностях виден не был – только горящие бензовозы да взрывающиеся боеприпасы. А сколько чего – не разглядишь.
* * *
День проходил, наступала ночь, за ней новый день. Нещадно палило солнце, башня накалялась, воздух в танке, пропитанный миазмами, казалось, превращался в некую жидкость, лишенную даже намека на кислород. И мухи... Они наполнили танк, жужжали, ползали по лицу, лезли в ноздри и уши. За броней иногда слышалось попискивание трясогузок, охотящихся за мухами, беспрерывное густое стрекотание кузнечиков и сверчков. Вологжина окутывало беспамятство, он стонал, ругался, хрипел. Сотников тряс его за плечо, прикладывал к лицу мокрую тряпку, Вологжин успокаивался и отходил.
Этот мальчишка оказался выносливым и терпеливым. Он не жаловался и, казалось, даже не спал, наблюдая за окрестностями. Более того, он оказался еще и весьма изобретательным. После того как они попробовали дышать через противогаз и у них из этого ничего не получилось, он отсоединил трубки от фильтра и высунул их кончики в смотровые щели. Дышать стало легче, хотя вонь, устремлявшаяся в те же щели, не ослабевала. Но сильнее, чем вонь и раскаленная на солнце броня танка, угнетало бездействие.
Немцы артиллерию на прежнее место ставить не стали, и неизвестно, оттого ли, что здесь были уничтожены несколько их орудий, или оттого, что их танки ушли так далеко, что в их поддержке с такого расстояния не было нужды. К тому же и дорога, по которой еще недавно осуществлялось непрерывное перемещение войск и техники, теперь почти опустела, разве что иногда проедет бронетранспортер в сопровождении десятка мотоциклистов, санитарная машина или пара танков, возвращающихся в часть после ремонта, так что вызывать огонь нашей артиллерии на столь ничтожные цели не имело смысла. Можно было бы самим пальнуть разок-другой, но Вологжин верил: немцы вот-вот должны побежать назад, и тогда им этой дороги не миновать. Он так и ответил «Енисею» на его запрос.
Ночью Сотников с осторожностью открывал командирский люк и они по очереди дышали воздухом, при этом свешиваясь вниз, потому что вся вонь, что накопилась внутри танка от разлагающихся трупов и от их собственных испражнений, кидалась вверх, и, стоя в этом потоке зловония, свежего воздуха не дождешься.





