|
|
|
Подготовил Андрей ГАРАВСКИЙ,
«Красная звезда». |
В Саратове вот уже 12 лет существует областная общественная организация «Союз ветеранов Семипалатинского ядерного полигона», которая в настоящее время насчитывает более 200 членов. Многие ветераны - непосредственные участники атмосферных ядерных испытаний как на Семипалатинском, так и на Новоземельском полигонах.
Активными членами организации являются полковники в отставке А.П. Бондин, А.М. Борисов, Л.Е. Булгаков, Н.М. Проневич, ст. сержант В.П. Набиулина, Н.А. Козлов и многие другие.
Ниже мы приводим воспоминания ветеранов о тех далеких событиях.
Александр Михайлович Борисов, полковник в отставке:
«Я принимал непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия на Новоземельском ядерном полигоне с целью определения воздействия светового излучения, ударной волны и радиационного облучения на самолет и экипаж. По приказу командира находился в командировке на аэродроме Оленья с 28 сентября по 3 октября 1961 года, где проходили подготовку к испытаниям ядерного оружия под руководством начальника ГК НИИ ВВС и министра среднего машиностроения. Они поставили задачу и провели инструктаж.
После взлета и построения в боевой порядок строя я шел на самолете ЗМ командиром корабля, за мной в строю шел на самолете ЗМ майор Проневич, который в прошлом году получил удостоверение «Ветеран подразделений особого риска». Также в этом полете принимали участие полковник Астафьев, подполковник Судаков и другие, но некоторых уже нет в живых. Мы шли в строю на видимости друг от друга, были эшелонированы на высоте по 300 метров. У меня высота была 11.000 м.
При подлете к Новоземельскому полигону перешли на дыхание в масках чистым кислородом, выключили наддув кабины, зашторили все стекла белыми шторками (а самолет предварительно снизу был покрашен в белый цвет и вымыт), надели темные очки. После сброса бомбы (по сигналу в наушниках у каждого члена) штурман включил секундомер (бомба с этой высоты летит до взрыва 50 секунд) и по внутренней связи вел отсчет: осталось 50, 40, 30, 20, 10, взрыв. Спустя 2-3 секунды после вспышки, а она была видна, несмотря на то, что мы зашторили все стекла и были в очках, я дал команду расшторить стекла и снять очки. Включив автопилот (у меня было задание пилотировать вручную проход ударной волны), стали наблюдать за развитием грибообразного облака и подходом ударной волны. Она шла и была сферической формы слегка бело-голубоватого оттенка (подобно волне в реке после броска камня в воду). При проходе ударной волны самолет сильно тряхнуло, послышался хлопок, потом более слабая отдаленная от земли ударная волна. Облако поднялось выше нас, у меня высота оставалась 11.000 м. Расстояние от эпицентра взрыва 18-20 км. Облако грибообразное бело-черно-коричнево-красных цветов в стволе и центре облака, все кипело и бурлило, перемешивая и крутя. Я облетал его вкруговую, по заданию в облако не входить, а идти вблизи и при отклонении стрелки дозиметра бортового ДП-3 от нуля в сторону увеличения отходить, а потом опять приближаться, не допуская увеличения дозы 15 рентген/час. После кругового облета облака, когда оно начало рассасываться, взяли курс на свою базу в г. Энгельс. Всего находились в зоне ядерного взрыва около 30 минут.
После посадки зарулили на специальную стоянку, где провели дозиметрический контроль экипажа и самолета. Самолет обмыли специальным раствором, а экипаж помылся в полевой бане (палатке) с последующими ежедневными медицинскими осмотрами и анализами крови. В течение 10 дней от полетов не отстранялись, о полученной дозе не сообщалось».
Самат Габдрасилович СМАГУЛОВ, полковник:
«В июне 1970 года я окончил Томский политехнический институт по специальности «Радиационная химия» и по распределению прибыл на работу в войсковую часть 14053 (9-я зональная лаборатория Службы специального контроля МО СССР, г. Семипалатинск-21), которая была расположена на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП). В период с 1970 по 1975 год в составе войсковой части 14053 занимался контролем за радиоактивностью окружающей среды с целью обнаружения и идентификации продуктов ядерных взрывов, проведенных на других полигонах. В марте 1975 года был призван в кадры Вооруженных Сил и направлен для прохождения службы в войсковую часть 52605, где прослужил до августа 1994 года. Службу начал в должности младшего научного сотрудника, а закончил в должности начальника службы радиационной безопасности Семипалатинского ядерного испытательного полигона. С 1994 г. по 1998 г. после демобилизации работал начальником отдела, директором Института радиационной безопасности и экологии Национального ядерного центра Республики Казахстан.
В настоящее время я руковожу Центром радиоэкологических проблем государственного Института прикладной экологии. В 1995 году за ликвидацию ядерного устройства на Семипалатинском полигоне в соавторстве присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники, кандидат технических наук, кавалер орденов Мужества, «За службу Родине...», медали «За боевые заслуги». На полигоне с 1970 по 1998 год.
Я хочу рассказать о последнем периоде деятельности Семипалатинского полигона, о том, с какими трудностями столкнулись командование и сотрудники полигона в борьбе за выживаемость, в том числе и с антиядерным движением «Невада - Семипалатинск».
В 1988 году меня перевели в отдел радиационной безопасности полигона на должность заместителя начальника отдела, которым командовал полковник В.Н. Ищенко - старожил отдела, ветеран полигона. В отделе было 12 офицеров и прапорщиков, 2 женщины-военнослужащие и 3 женщины - служащие СА. В 1989 году назначают начальником отдела радиационной безопасности. Приказом начальника полигона отдел именуется «Служба радиационной безопасности» (Служба РБ).
Служба РБ выполняла вышеперечисленные задачи и состояла из полевой группы, группы индивидуального контроля участников испытаний и сотрудников, работающих с радиоактивными веществами, группы материально-технического снабжения. Для более эффективной работы были созданы две лаборатории и группа материально-технического обеспечения участников испытаний.
Теперь перейдем к событиям. Испытание в скважине 1365 было проведено 19 октября 1989 г. Это был последний ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне. Отличительной особенностью этого эксперимента было то, что на нем присутствовали представители региональной власти и общественной организации «Невада - Семипалатинск». Одновременно был согласован организационный план взаимодействия с 4-м диспансером 3-го Главного управления МЗ СССР по работе службы РБ полигона и с подразделениями 4-го диспансера за территорией полигона.
На этом испытании дополнительно над оголовком скважины был возведен бетонный куб, чтобы исключить выход радиоактивных продуктов на дневную поверхность.
Вот как описывает этот эпизод один из сотрудников службы радиационной безопасности капитан Н.В. Сереткин: «...Делегация «зеленых» в предвкушении негативных последствий подземного ядерного взрыва пила кофе с бутербродами в выжидательном районе. Военные предложили идею герметизации эпицентра ядерного взрыва. Герметизатором должен был служить бетонный куб размерами один метр в высоту и метров пять в диаметре, устанавливаемый непосредственно на оголовке скважины. В понимании изобретателей он должен был надежно стать на пути газовой радиоактивной струи, преодолевшей путь 600 м.
Взрыв! Доклад о нормальной радиационной обстановке, выдвижение к эпицентру взрыва. Делегация «зеленых» во главе с начальником полигона генерал-лейтенантом Аркадием Ильенко и начальником отдела РБ полковником Саматом Смагуловым на автобусе прибыла к эпицентру. На эпицентре доблестные буровики уже поставили опалубку и начали герметизацию эпицентра взрыва. Четыре военных дозиметриста по кругу расположились на расстоянии 30 м от эпицентра, один находился в месте непосредственного производства работ (герметизация). Генерал неторопливо начал объяснять «зеленым» смысл проведения работ, начальник отдела РБ изредка подсказывал нужную терминологию и не спускал глаз со своих «орлов», которые закамуфлированными жестами докладывали ему радиационную обстановку. Куб был залит. В середине пространной речи генерала, расшифровав жест одного дозиметриста, начальник отдела РБ, не спеша, двинулся к нему. Подойдя, он вполголоса спросил: «Сколько?» Дозиметрист также вполголоса ответил: «У меня 15 рентген». Начальник отдела РБ, не спеша, двинулся к делегации и сделал непонятный «зеленым» жест рукой, генерал отреагировал мгновенно: «Ну, товарищи, здесь все ясно, сейчас едем в жилую зону площадки, где устроим пресс-конференцию. Начальник отдела РБ, продолжайте контроль!» Делегация поехала пить кофе на площадку «Балапан».
Как показало время, Республика Казахстан сама не в состоянии была осилить такую огромную и кропотливую проблему без знания специфики полигонных испытаний, а самое главное - не могла в достаточной мере финансировать эти работы.
29 августа 1991 года Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева Семипалатинский испытательный ядерный полигон был закрыт для ядерных испытаний. С этого момента началась работа по созданию Национального ядерного центра Республики Казахстан, одним из направлений деятельности которого была «оценка радиоэкологической обстановки региона СИПа и влияние последствий ядерных испытаний на состояние здоровья населения».
Справедливости ради следует сказать и о том, что командование полигона приложило немало усилий для создания Национального ядерного центра Казахстана, в состав которого входили бы и научно-исследовательские подразделения полигона с последующей ротацией специалистов. Для этой работы на полигоне была создана специальная группа под руководством начальника полигона генерала Ю.В. Коноваленко. В состав группы вошли: генерал Ф.Ф. Сафонов (зам. начальника полигона по науке), Ю.С. Черепнин (директор Объединенной экспедиции НПО «Луч»), А.А. Соломонов (начальник отдела), Л.Л. Нефедов (начальник отдела), С.Г. Смагулов (начальник службы радиационной безопасности полигона)».
 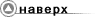
|





