|
|
|
Полковник в отставке Виктор ПОПОВ, участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы. |
Накануне Праздника Победы Первый канал телевидения пригласил меня на съёмки. По задумке редакции решено было дать несколько репортажей о том, как воины разных видов Вооружённых Сил и родов войск сражались на фронтах за победу. Я воевал в отдельной гвардейской танковой бригаде и представлял, таким образом, танкистов.
Утром прислали машину, и после непродолжительного пути мы оказались на территории Музея военной техники, расположенного в Подмосковье. Надо сказать, что это был не просто музей. Многие его экспонаты – танки, самолёты, орудия и автомобили – воссозданы мастерами-умельцами из фрагментов, обнаруженных следопытами в болотах, озёрах, реках, труднопроходимых лесных массивах, где когда-то бушевала война.
Вместе с тележурналистом Дмитрием Кузьминым, сравнительно молодым человеком с окладистой бородкой, которая очень шла к его лицу, мы не спеша двигались вдоль шеренги экспонатов, выставленных под открытым небом.
– Узнаёте? – спросил Дмитрий, остановившись возле бронированной громадины на гусеничном ходу.
Я замер, рассматривая до боли знакомый силуэт. Что-то защемило в груди, полез было за валидолом, но сдержался. Это был американский танк, один из тех, на которых мы воевали. Боже мой! Когда я видел его в последний раз? И мысли понеслись в далёкий сорок четвёртый год.
– Ребята! Союзники прибыли! – ворвался в землянку вездесущий Сашка Карасёв – наводчик соседнего миномётного расчёта, прирождённый следопыт и разведчик, вынужденный лишь в силу обстоятельств смотреть теперь на мир через прорезь миномётного прицела. – В третьем танковом, сам видел.
Третий танковый батальон бригады стоял по соседству. И те, кто был помоложе да полюбопытней, помчались туда. Танки и впрямь были необычные: чистые, ухоженные, с идеально гладкой поверхностью брони. Одним словом, заграница. Но хозяйничали на них наши ребята.
– Это перед вами американец. Называется М4 A3 «Шерман», – пояснял нам добровольный гид в танкошлеме и с лейтенантскими погонами на комбинезоне. – Серьёзная машина: пушка 75-мм, броня приличная и на ходу хорош. А те, – показал он на другой конец поляны, – английские: который поменьше – «Валентайн», а побольше и подлинней – «Матильда». По ленд-лизу к нам поступают.
Ленд-лиз. Ветераны, наверно, улыбнутся, вспомнив это почти забытое слово. В переводе с английского оно означает давать взаймы или в аренду. А мы знали одно: это помощь союзников. Она шла из Америки и Канады через Аляску и Чукотку. Из Великобритании – караванами судов или, как моряки называют, конвоями через Мурманск и Архангельск. Эти конвои нещадно топили вражеские лётчики и подводники. А они шли и везли танки, самолёты, боевые корабли, продовольствие.
Иногда спорят о том, какую роль эта помощь сыграла для нас в годы войны, подчёркивают её малую толику в сравнении с тем, что производила наша промышленность. А я скажу так. В нашей бригаде было три танковых батальона. Один из них был укомплектован техникой, поступавшей по ленд-лизу. Не было бы этой помощи, не было бы и батальона.
Можно сетовать на то, что броня и пушки у заморских машин слабоваты. Но эти танки были по-своему хороши при действиях против поспешно занятой обороны, при преследовании отступающего противника. Ну а в трудном бою – всем трудно.
Нам нравились заморские танки. И это непонятное слово «ленд-лиз», которое привело их сюда. Мы завидовали нашим сверстникам, которым доверено водить машины, сделанные в Америке и Англии.
Иногда заглядывали к танкистам в свободные вечера. Жили они дружно. Каждый экипаж, как одна семья. И командиры не чурались подчинённых. Как-то пришёл комбат гвардии капитан Смирнов:
– А чего вы без гармошки сидите? Ну-ка, Вертаев, неси свой инструмент.
Вихрастый парень, которого все называли Иваном, шмыгнул в землянку, вернулся с гармошкой.
– Сейчас он вам и про траки с резиновыми прокладками споёт, и про фальшь-борта, – опережая события, просвещал нас командир.
Вертаев снял танкошлем, забросил ремень гармошки за плечо, взъерошил зачем-то и без того не очень причёсанную голову и с озорной улыбкой объявил: «Рязанские частушки». И запел:
– Прошли танки по дороге –
Асфальт искорёжен.
А мы с «Валечкой» моей
По паркету можем.
Танкисты одобрительно заулыбались. Так оно, мол, и есть: на «Валентайне» хоть по паркету катайся.
Наша скромница «Матильда»
С флангов неприступная.
А вот спереди и сзади
Полностью доступная.
И все понимали намёк: броня у «Матильды» не ахти. А солдат, поощрённый вниманием, стал притопывать ногами в такт песни:
Я не знаю, где придётся
Встретить мне свой смертный час,
А на Вальке иль на Мотьке
Я бы умер хоть сейчас.
Доморощенные частушки нравились. Танкисты галдели, хлопали в ладоши. А комбат сказал:
– Над третьим куплетом ты ещё поработай. Умирать – это не для нас. А кто фашистов будет бить в их логове? Вон она, Восточная Пруссия, совсем рядом.
– А теперь подойдите к танку, – услышал я откуда-то голос Димы Кузьмина.
Остановились у танка.
– «Валентайн!» – невольно вырвалось у меня.
– Нет, это «Стюарт» – родной брат, если можно так сказать, «Валентайна», – поправил меня инженер, работник музея. – Хотите прокатиться?
У братца, как и у «Валентайна», опорные катки маленькие, а верх гусеницы высоко и с борта забираться на него неудобно. Зашёл спереди. Привычно ухватился за ствол пушки, подтянулся на руках, ступил на лобовой лист брони, зашагал вдоль борта.
– А можно в башню? – осмелел я.
Открылся люк. Спустил ноги в пространство боевого отделения, встал на командирское сиденье, наполовину высунувшись наружу.
Танк тронулся, поплыло слева здание музея, побежал навстречу асфальт. И я ощутил себя как бы вновь на дорогах Польши, на брусчатке мостовых Восточной Пруссии.
Рука моя невольно потянулась к козырьку фуражки. Я находился в танке времён войны и мысленно отдавал честь однополчанам, живым и павшим, всем тем, кто ковал нашу Великую Победу.
– Как впечатление? – спрашивал мой будущий собеседник по эфиру Дима Кузьмин, стараясь перекричать грохот двигателя танка.
Но слова его не доходили до меня. Я был весь там, в далёком сорок пятом.
 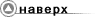
|





